Культурная память
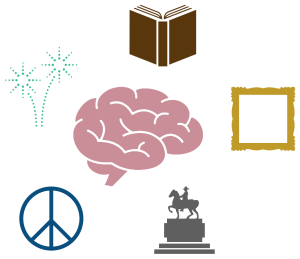 Ассманн и Ассманн определяют культурную память с точки зрения культурологии как „традицию внутри нас, […] тексты, образы и обряды, которые затвердевали на протяжении поколений, веков, а в некоторых случаях и тысячелетий повторения, и которые формируют наше сознание времени и истории, наше представление о себе и о мире“. (Assmann, J. 2006, 70)
Ассманн и Ассманн определяют культурную память с точки зрения культурологии как „традицию внутри нас, […] тексты, образы и обряды, которые затвердевали на протяжении поколений, веков, а в некоторых случаях и тысячелетий повторения, и которые формируют наше сознание времени и истории, наше представление о себе и о мире“. (Assmann, J. 2006, 70)
Триада памяти
Этот термин, используемый преимущественно в дискурсе о памяти в культурных исследованиях, является частью концептуальной триады, которая, по мнению Алейды Ассманн, описывает принципиально различные формы памяти:
– индивидуальная память
– (социальная) коммуникативная память
– культурная память (ср. А. Ассманн 2006, 13).
Формы памяти
Если индивидуальная память человека наполнена как имплицитными, так и эксплицитными, т.е. автобиографическими воспоминаниями, то в коллективной памяти, т.е. в семье, в социальной группе или в обществе в целом, воспоминания сохраняются благодаря взаимодействию с другими людьми. Коммуникативные, т.е. устные, традиции передаются от поколения к поколению.
Французский социолог Морис Хальбвакс так описывает связь между индивидуальной памятью и обществом: „Чаще всего я вспоминаю потому, что другие побуждают меня к этому, потому что их память приходит на помощь моей, потому что моя опирается на их. По крайней мере, в этих случаях в памяти нет ничего загадочного“ (Halbwachs 1966, 20 f.).
Однако „наши воспоминания не только социально, но и культурно <<заложены>>“ (Assmann, J. 2006, 69). Тексты, образы, вещи, символы и обряды формируют культурную память и являются основой нашей культурной идентичности. Носителями этих культурных традиций являются „внешне[е] носители и культурно[е] практики“ (Ассманн, А. 2006, 19), которые сохраняют язык, образы, голоса и звуки. Ведь „только места хранения и носители превращают коммуникативную память в подлинно культурную память“. (Reichwein 2018)
История и идентичность
Но как определяется, что мы помним и что забываем? В кругах AfD призывают к „повороту на 180 градусов в политике сохранения памяти“ и маргинализируют Холокост как „птичье гнездо“. Так называемый „культ вины“ немцев осуждается, и тем самым культурная память все больше ставится под сомнение.
Становится ясно, что культурная память не статична. Она подвержена динамике и изменениям, которые должны обсуждаться и обсуждаются в обществе в целом. Ведь „то, что помнят, и то, что забывают, в значительной степени формируется, организуется и реконструируется“ (Reichwein 2018).
Литература
Ассманн, Алейда (2006): Пространства памяти. Формы и трансформации культурной памяти. 3rd ed. Beck: Munich.
Ассманн, Ян (2006): Томас Манн и Египет. Миф и монотеизм в новеллах о Йозефе. Beck: Munich.
Хальбвакс, Морис (1985): Память и ее социальные условия. Suhrkamp: Berlin.
Райхвейн, Марк (2018): Почему ни одна нация не может жить без памяти. https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article177671164/Nation-und-Erinnerung-So-funktioniert-das-kulturelle-Gedaechtnis.html [13.11.2018].
